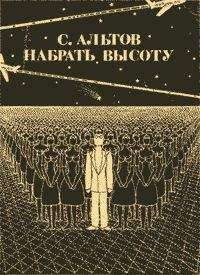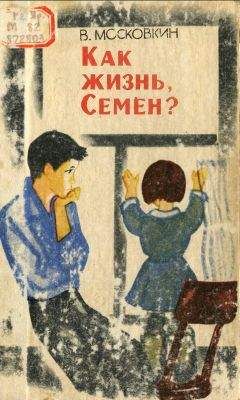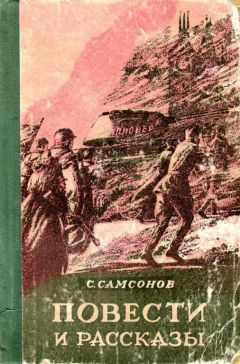Семён Шуртаков - Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]
…После раскаленных улиц в прохладном Доме культуры — благодать.
Я еще с детства немного рисую, и потому на мою долю выпал задник. У Галки набита рука на оформлении нашей институтской стенгазеты, и здесь она взялась за плакаты. Костька пишет многометровые лозунги на русском и абхазском языках — у него чертежный почерк. Одна Маринка ничего не умеет. Она развлекает нас песнями. Голос у нее несильный, но приятный, и песен она знает великое множество. Иногда ей берется подтягивать Галка, и получается у них и совсем здорово. Особенно протяжные русские песни, какая-нибудь «Пряха» или «Позарастали стежки-дорожки». А еще Маринка помогает мне разводить краску, подает то или другое: работаю-то я стоя на стремянке, задник большой. И вот помалюю-помалюю, рука устанет — опущу кисть в банку и вниз гляну. А снизу на меня черные Маринкины глаза глядят. Да и во время работы мельком взглянешь вниз — опять на Маринку натыкаешься. И так вот встретимся взглядом, улыбнемся друг другу — и опять каждый за свое дело.
Как-то уже перед вечером то ли я неосторожно махнул кистью, то ли Маринка слишком близко подсунулась, а только обрызнул я ее краской, и изрядно обрызнул. Особенно большое пятно растеклось по грудному вырезу сарафана. Маринка заторопилась стирать его, а я ей: погоди, надо уметь, а то еще больше только размажешь. Спрыгнул со стремянки, взял клок ваты и начал аккуратно стирать краску. Все хорошо, вот только с самого края выреза, оттого что он туго натянулся на груди, краска не берется. «Подожди», — сказала Маринка и быстро — я и не заметил как — расстегнула верхнюю пуговицу сарафана. Я отогнул кромку и увидел под ней, в глубине, маленькое родимое пятнышко… И тогда я не знал и сейчас не знаю, почему мне так захотелось поцеловать это пятнышко. И когда я поднял взгляд и по Маринкиным глазам понял, что она знает о моем желании, знает и тоже хочет, чтобы я ее поцеловал, — на какое-то время, может быть, всего на секунду, а может, и на целую минуту, я словно бы разом оглох и ослеп. Я перестал видеть вокруг себя, перестал слышать. Я только слышал ток крови в висках, слышал, как прерывисто дышит Маринка, и видел, как опускается и поднимается родимое пятнышко на ее груди… И когда Костька что-то крикнул мне, я не сразу понял, откуда и зачем здесь Костька, как он сюда попал.
…Жарко. Блещет, сверкает, горит белым огнем Черное море. На него так же больно глядеть, как и на солнце. И только когда войдешь в воду, видишь, что она синяя или голубая, а если совсем близко, у твоих плеч, — зеленоватая. И после немилосердно пекущего солнца — оно печет так, что, кажется, кожа вот-вот возьмется корочкой, — после обжигающе горячего пляжного песка такая благодать покачиваться на зыбкой, штилевой, совсем и незаметной для глаза волне!
Там, на берегу, сейчас что-то такое мы говорили о счастье, о том, что за штука счастье и как это понимать. Да вот оно — счастье! Вот так опрокинуться на спину, вольно раскинуть руки и бездумно качаться на тихой, ласковой волне. Можно и думать. Можно думать, например, как прекрасна жизнь, как прекрасно, что ты молод и, значит, все еще впереди, и ты еще многое успеешь сделать, пережить, перечувствовать, узнать…
С берега доносятся голоса, вскрики, визг. Это, наверное, полезла в воду Маринка. Сначала, пока воды по колено или по пояс, она визжит от удовольствия, потом, на глубине, уже от страха — она почти совсем не умеет плавать.
Вот и об этом, о Маринке, тоже можно думать. И думать хоть целый час — не надоест…
Когда я подплываю к берегу, Маринка просит поучить ее плавать.
— Как не стыдно! Выхваляешься тут, выпендриваешься — поглядите, какой я Гордон Байрон, а рядом человек как топор на воде держится. Вот утону — ты отвечать будешь…
Я вытягиваю руки, Маринка ложится на них животом и начинает отчаянно колотить по воде ногами.
— Так плавают собаки, щенята, — говорю я ей. — А ты, сама же говоришь, человек, учись и плавать по-человечески. Ногами не молоти, а руками делай вот так…
Я показываю, как надо грести, и чувствую, как к другой моей руке Маринка прикасается уже не животом, а грудью. Вот волна чуть подняла барахтающуюся Маринку — и грудь ушла из моей ладони, а вот опять, упруго, плавно влилась в нее.
Я стараюсь вылезти из воды хотя бы на минуту раньше Маринки. Мне нравится глядеть, как она выходит на берег. Тихая волнишка долго бежит по пятам, словно бы морю не хочется расставаться с ней, с загорелых плеч по длинным стройным ногам стекает вода, задержавшиеся капли сверкают на солнце, и оттого кажется, что блещет, сверкает все ее ладное, аккуратно вылепленное тело. И когда она идет по гладкой прибойной полосе, идет легко, едва касаясь ногами той полосы, я каждый раз вспоминаю сказанное Костькой: «На земле ее вроде и нет совсем — вся на воздухе». Хорошо сказал Костька. Очень точно сказал, бродяга!
А потом мы опять ложимся на горячий песок, и хотя лежим все четверо вместе, на близком расстоянии друг от друга, и ведем один общий разговор, у нас с Маринкой продолжается начатый еще в море, свой, потаенный. О нем никто ничего не знает и даже не догадывается, потому, что разговор этот идет без слов, без взглядов; все лежат на спине с закрытыми глазами. Просто наши раскинутые руки соприкасаются, маленькая Маринкина ладошка покоится в моей ладони. И по слабому пожатию, даже просто по шевелению пальцев мы прекрасно понимаем друг друга. Уж если телепаты утверждают о возможности передачи мыслей на расстояния в тыщи верст — чего проще передавать свои и читать чужие, соприкасаясь друг с другом!
Временами откуда-то из дальней дали перед моим мысленным взглядом встает Валя. Но образ ее почему-то расплывается, как бывают расплывчатыми лица на фотографиях с неправильным, ошибочным фокусом. Та дальняя даль, которая отделяет нас, словно бы мешает найти точный фокус моему мысленному зрению, и вижу я Валю не рядом, не перед собой, а там, где она и есть, — за горами, за долами. А может, оттого так происходит, что мои глаза, мой взгляд слепит то, что меня здесь повсечасно окружает, — и это резкое южное солнце, и сверкающее под его лучами море, и эта яркая по краскам южная природа?! А еще и всему здешнему под стать, — тоже яркая, повсечасно зримая или, как сейчас, осязаемая, живая Маринка?!
…Завтра мы уезжаем из Поти. Уезжаем с грустью, с сожалением: за время, какое в нем прожили, мы уже успели полюбить этот гостеприимно приютивший нас тихий, милый городок. Целый вечер бродим по его улицам и скверам, прощаемся. И разговоры заходят все какие-то грустные. Даже устойчиво оптимистическая, как мы про нее говорим, Галка, и та ходит тихая, на себя непохожая.
Уже почти перед самой гостиницей Маринка предложила еще раз пройтись сквером, а Галке почему-то не захотелось, и мы разошлись.
На дорожках сивера было полутемно, свет луны и фонарей едва проникал сквозь густые заросли. Однако, надо думать, именно этот полумрак и нравился уединившимся парочкам — все до единой скамейки были заняты.
Мы прошагали сквер и вышли на широкую и в этот поздний час совершенно пустынную площадь. С одной стороны площадь замыкал большой, видный из окон нашей гостиницы театр. Мы его меж собой так и звали: Большой театр. Для такого городка он был, пожалуй, великоват, особенно если иметь в виду, что в нем не было труппы московского Большого театра, кажется, вообще не было постоянной труппы. Однако это не мешало потийцам считать здание театра одной из тех достопримечательностей города, о которых говорят с гордостью.
Призрачный свет луны обливал восточную сторону театра, и так отчетливо резка была грань между светом и мраком, что и широкая каменная лестница и порталы с колоннами выглядели как бы утратившими свои объемы.
— Посидим на ступеньках, — предложила Маринка.
Каменные ступени еще хранили дневное тепло. И воздух был теплым, разве что теперь явственней, чем днем, различались запахи цветов, которые наносило из сквера.
— Бог ты мой, красота-то какая, тишина-то какая! — словно боясь спугнуть эту тишину, прошептала Маринка. — Так хорошо, что и говорить ни о чем не хочется. Почитай стихи… Что-нибудь… ну, что-нибудь соответствующее.
Я люблю стихи. И, говорят, неплохо читаю. Костька даже полагает, что у меня получается, «как у мастера художественного слова, если не хлеще». Но не в этом дело. Дело в том, что когда мы присели на залитые лунным светом каменные ступени, у меня сами собой всплыли в памяти строчки, которые — как знать? — может, и хотела сейчас услышать Маринка?
Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя…
— Эти? — спросил я, дочитав стихотворение до конца.
— Да! — так же тихо ответила Маринка и еще крепче прижалась к моему плечу.
— Телепатия?
— Телепатия.
Когда я читал и эти, и другие стихи из «Персидских мотивов» в Москве — было одно. От них веяло сказочностью, заморской экзотикой, почти фантастикой. А сейчас — вот она, южная ночь, вот оно, золото холодное луны и запах олеандра и левкоя. Потому и воспринимались стихи не как что-то и кем-то написанное, а как естественное, самостийное выражение этой ночи, этих густых дурманящих запахов и призрачного лунного света. Не поэт и не я — сама южная звездная ночь доверительно говорила нам о своей необыкновенной красоте.